



Биография моя проста. Родился в 1938 году, в Тюмени, в семье педагогов. Закончил в своём родном городе школу. По причине ранней склонности к сочинительству, с детства подумывал ступить на литературную стезю. Были, правда, и другие планы. Романтические: поступить в морское училище. И более «земные»: пойти по стопам родителей, в педагогический институт. Романтические провалились из-за придирчивости врачей, земные – из-за неувязки с приёмом документов. Сама судьба властной и прихотливой рукой направила меня на журфак Уральского университета и способствовала тому, что я, при своем троечном аттестате, сдал все приемные экзамены на «отлично». В университете бросил писать стихи и начал писать рассказы. Для рассказов, естественно, необходим жизненный материал, а никакого материала, кроме собственного детства, у семнадцатилетнего первокурсника быть не могло. Отсюда всё и пошло… Моя дипломная работа состояла в основном из рассказов о детях. Она же стала основой первой книжки, которая появилась на свет в Свердловске в 1962 году…
Еще до получения диплома я стал работать в газете «Вечерний Свердловск», потом в журнале «Уральский следопыт», а через четыре года, уже будучи членом Союза писателей, ушел «на творческие хлеба». С тех пор сижу за своим письменным столом и пишу. Как видите, всё очень просто… Видимо, «сыграла наследственная педагогическая струнка», и в шестьдесят первом году я начал организовывать ребячий отряд. «Каравеллу». Именно это дело позволило мне хоть в какой-то степени объединить в своей жизни мечты о писательстве, об учительстве и о парусах. Ибо «Каравелла» через несколько лет стала парусной флотилией. А еще – главной причиной того, что я так и не вернулся в Тюмень, хотя в начале шестидесятых были такие планы. Нельзя было бросить ребят, которых сам приручил и объединил в крепкие экипажи, научил любить паруса…








Биография моя проста. Родился в 1938 году, в Тюмени, в семье педагогов. Закончил в своём родном городе школу. По причине ранней склонности к сочинительству, с детства подумывал ступить на литературную стезю. Были, правда, и другие планы. Романтические: поступить в морское училище. И более «земные»: пойти по стопам родителей, в педагогический институт. Романтические провалились из-за придирчивости врачей, земные – из-за неувязки с приёмом документов. Сама судьба властной и прихотливой рукой направила меня на журфак Уральского университета и способствовала тому, что я, при своем троечном аттестате, сдал все приемные экзамены на «отлично». В университете бросил писать стихи и начал писать рассказы. Для рассказов, естественно, необходим жизненный материал, а никакого материала, кроме собственного детства, у семнадцатилетнего первокурсника быть не могло. Отсюда всё и пошло… Моя дипломная работа состояла в основном из рассказов о детях. Она же стала основой первой книжки, которая появилась на свет в Свердловске в 1962 году…
Еще до получения диплома я стал работать в газете «Вечерний Свердловск», потом в журнале «Уральский следопыт», а через четыре года, уже будучи членом Союза писателей, ушел «на творческие хлеба». С тех пор сижу за своим письменным столом и пишу. Как видите, всё очень просто… Видимо, «сыграла наследственная педагогическая струнка», и в шестьдесят первом году я начал организовывать ребячий отряд. «Каравеллу». Именно это дело позволило мне хоть в какой-то степени объединить в своей жизни мечты о писательстве, об учительстве и о парусах. Ибо «Каравелла» через несколько лет стала парусной флотилией. А еще – главной причиной того, что я так и не вернулся в Тюмень, хотя в начале шестидесятых были такие планы. Нельзя было бросить ребят, которых сам приручил и объединил в крепкие экипажи, научил любить паруса…



















Польша. Г. Пултуск. 1905 г.


Крапивин (1 год).
Польша. Г. Пултуск. 1905 г.



Петр Печенкин, чиновник постового ведомства в г. Вятке, Серафима Александровна Печенкина (ур. Перевощикова)
– дед и бабушка Славы по материнской линии.
Их дочь Маша, старшая сестра Ольги (будущей мамы Славы). 1904 г.








Петр Печенкин, чиновник постового ведомства в г. Вятка, Серафима Александровна Печенкина (ур. Перевощикова)
– дед и бабушка Славы по материнской линии.
Их дочь Маша, старшая сестра Ольги (будущей мамы Славы).
1904 г.



У Крапивиных в тот период родилось двое детей: Людмила (30 января 1925 г.) и Сергей (6 июля 1926 г.). Десять лет в Филиппово и в Казарово семья Крапивиных жила дружно, хотя и трудно, но счастливо.

Владислав в Тюмени проживал с мамой и отчимом, но порой ездил к папе в Минск.


У Крапивиных в тот период родилось двое детей: Людмила (30 января 1925 г.) и Сергей (6 июля 1926 г.). Десять лет в Филиппово и в Казарово семья Крапивиных жила дружно, хотя и трудно, но счастливо.

Владислав в Тюмени проживал с мамой и отчимом, но порой ездил к папе в Минск.
в школе

Квартал по улице Герцена (между улицей Дзержинского и улицей Первомайской). Дом, где проживали Крапивины (1938-1946, март; улица Герцена, 59).
Школа № 19, начальная (улица Ленина, 41).
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1946-1948, лето; улица Смоленская, 32).
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1948-1949; улица Нагорная, 21)
Школа № 10, восьмилетняя (угол улиц Луначарского и Казанской) и лог.
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1950-1956; улица Грибоедова, 31).
Школа № 25, средняя (улица Первомайская,1).
План экскурсии

Квартал по улице Герцена (между улицей Дзержинского и улицей Первомайской). Дом, где проживали Крапивины (1938-1946, март; улица Герцена, 59).
Школа № 19, начальная (улица Ленина, 41).
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1946-1948, лето; улица Смоленская, 32).
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1948-1949; улица Нагорная, 21)
Школа № 10, восьмилетняя (угол улиц Луначарского и Казанской) и лог.
Дом, где проживала семья Славы Крапивина (1950-1956; улица Грибоедова, 31).
Школа № 25, средняя (улица Первомайская,1).
План экскурсии




Тюмень навсегда полюбилась будущему писателю, а тюменское детство стало главной и непреходящей темой всего его творчества. По всем произведениям Владислава Петровича рассыпаны жемчужины его воспоминаний и впечатлений о счастливом времени, прожитом в родном городе. Писатель в своих книгах дал Тюмени множество имен: Турень и Новотуринск, Старогорск и Старотополь, город Орехов и город Колокольцев, а также Устальск, Хребтовск и даже Ново-Калошин, Максимкин город, северный городок, просто «город» и «город Т». Но все это – крапивинская незабываемая Тюмень. Его долгая эмоциональная память, которую он сохранил в течение всей жизни, воплотилась в многочисленных строках, в которых он выразил любовь к своей Тюмени. Лучше всего о любимых уголках родного города рассказывает сам писатель.






Купец Иван Петрович Войнов (1826–1886) неоднократно (в 1879, 1880, 1883 гг.) выступал в тюменской городской Думе с инициативой строительства на свои средства родовспомогательного заведения, однако при его жизни его желание не было исполнено, т.к. Дума мотивировала отказ на строительство отсутствием средств на последующее содержание заведения. Только через 12 лет, Александровский родильный дом был открыт. Улица, на которой располагался дом, построенный на пожертвования И.П. Войнова, получила название Войновская (ныне Кирова). Более 50 лет этот родильный дом оставался единственным в городе. Здание снесено в 2002 году.
(бывший Войновский)
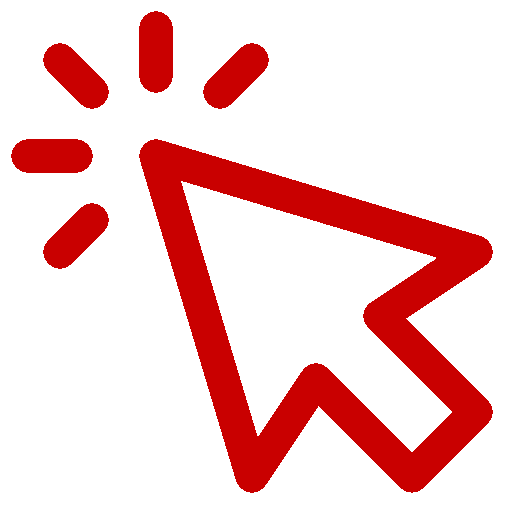
Купец Иван Петрович Войнов (1826–1886)неоднократно (в 1879, 1880, 1883 гг.) выступал в тюменской городской Думе с инициативой строительства на свои средства родовспомогательного заведения, однако при его жизни его желание не было исполнено, т.к. Дума мотивировала отказ на строительство отсутствием средств на последующее содержание заведения. Только через 12 лет, Александровский родильный дом был открыт. Улица, на которой располагался дом, построенный на пожертвования И.П. Войнова, получила название Войновская (ныне Кирова). Более 50 лет этот родильный дом оставался единственным в городе. Здание снесено в 2002 году.


(бывший Войновский)











Деревянные домики на улице Герцена с резьбой наличников и крылечек, с узорами железных дымников и покосившимися воротами Слава изучил, когда стал школьником.
Квартал по улице Герцена, между улицами Дзержинского и Первомайской – родной квартал Славы Крапивина. Сейчас деревянных домов этого квартала нет, на их месте – стоянка машин администрации города Тюмени.



Деревянные домики на улице Герцена с резьбой наличников и крылечек, с узорами железных дымников и покосившимися воротами Слава изучил, когда стал школьником.
Квартал по улице Герцена, между улицами Дзержинского и Первомайской – родной квартал Славы Крапивина. Сейчас деревянных домов этого квартала нет, на их месте – стоянка машин администрации города Тюмени.

































Двор на ул. Герцена, 59.
Сзади – дом, где жили Крапивины







Двор на ул. Герцена, 59.
Сзади – дом, где жили Крапивины






Двор на ул. Герцена, 59. 1940




Двор на ул. Герцена, 59. 1940


Стены внутри дома были дощатые, тонкие, все слышно, что делается у соседей. Впрочем, особых тайн друг от друга и не было…
Говорили, что когда-то дом принадлежал Шаклиным, но потом его отняли, и он стал «жактовским» (от слова ЖАКТ – что-то вроде нынешнего ЖКО).






Стены внутри дома были дощатые, тонкие, все слышно, что делается у соседей. Впрочем, особых тайн друг от друга и не было…
Говорили, что когда-то дом принадлежал Шаклиным, но потом его отняли, и он стал «жактовским» (от слова ЖАКТ – что-то вроде нынешнего ЖКО).















Игры иногда заканчивались лишь к полуночи. Все окрестные улицы, скверы и дворы были наши – бегай, кричи, прячься, сражайся на палках, гоняй старый футбольный мяч





Игры иногда заканчивались лишь к полуночи. Все окрестные улицы, скверы и дворы были наши – бегай, кричи, прячься, сражайся на палках, гоняй старый футбольный мяч

















































































































Построена на средства тюменского купца Г.Т. Молодых в 1898 году. Небольшое кирпичное одноэтажное на полуподвале здание в эклектическом стиле, которое украшает центральный ризалит парадного входа, с высоким аттиком, с угловыми тумбами, широкий карниз из многослойных городков.
В здании в советское время размещалась начальная школа № 19.










Построена на средства тюменского купца Г.Т. Молодых в 1898 году. Небольшое кирпичное одноэтажное на полуподвале здание в эклектическом стиле, которое украшает центральный ризалит парадного входа, с высоким аттиком, с угловыми тумбами, широкий карниз из многослойных городков.
В здании в советское время размещалась начальная школа № 19.




























(1946-1948, лето)






















Двор на ул. Нагорной, 21
























Школа № 10, 3-й класс. Слава Крапивин – верхний ряд, второй слева. 1948 г.




Окружной суд помещался в угловом двухэтажном с полуподвалом кирпичном оштукатуренном здании. Построено в последней трети XIX века по «образцовому» проекту, характерно для ранней эклектики, сохраняющей связь с классицизмом. Во второй половине ХХ века в здании размещалась школа № 10 (мужская). Впоследствии школу перевели, а здание отдали архитектурно-строительной академии. В 1990-е гг. был проведен капитальный ремонт, объем здания был увеличен почти вдвое боковой пристройкой. В настоящее время здание принадлежит Тюменскому индустриальному университету.
Эта школа-семилетка на углу улиц Казанской и Луначарского мне понравилась. Она была просторная, светлая, двухэтажная. В вестибюле блестел желтый паркет, а в углу даже стоял гипсовый бюст Пушкина на голубой фанерной подставке. Это придавало школе академичность. Похоже было на гимназию из книжки про давние времена. А самое хорошее – то, что школа была мужская, без единой девчонки. Это казалось мне тогда великим преимуществом.




Окружной суд помещался в угловом двухэтажном с полуподвалом кирпичном оштукатуренном здании. Построено в последней трети XIX века по «образцовому» проекту, характерно для ранней эклектики, сохраняющей связь с классицизмом. Во второй половине ХХ века в здании размещалась школа № 10 (мужская). Впоследствии школу перевели, а здание отдали архитектурно-строительной академии. В 1990-е гг. был проведен капитальный ремонт, объем здания был увеличен почти вдвое боковой пристройкой. В настоящее время здание принадлежит Тюменскому индустриальному университету.
Эта школа-семилетка на углу улиц Казанской и Луначарского мне понравилась. Она была просторная, светлая, двухэтажная. В вестибюле блестел желтый паркет, а в углу даже стоял гипсовый бюст Пушкина на голубой фанерной подставке. Это придавало школе академичность. Похоже было на гимназию из книжки про давние времена. А самое хорошее – то, что школа была мужская, без единой девчонки. Это казалось мне тогда великим преимуществом.







Во дворе дома по ул. Грибоедова




В. Крапивин
--
«… у меня за спиной, над заборами и застывшими тополиными ветками горело желтое окошко второго этажа. Окошко моего дома. Я знал, что мама, вставшая раньше меня, хлопочет по хозяйству и время от времени поглядывает сквозь стекла – как бы мне во след, хотя и не видит меня. С той поры во мне навсегда осталось ощущение теплого окошка за моей спиной. Ощущение дома, где тебя ждут. На всех дальних путях, во всех опасностях и тревогах…»







СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25




Школа № 25, 10 «В» класс. Слава Крапивин – верхний ряд, третий слева. 1956 г.










Была образована во второй половине 1930-х годов. В 1943 году ввели раздельное образование для мальчиков и девочек, и школа № 25 была мужская (а школа № 21 – женская). С 1954 года образование снова стало совместным.



– Сегодня рисуйте что хотите, развивайте воображение.